Античные истоки христианской мистики
.jpg)
То, что античная философия наряду с Откровением Ветхого и Нового Завета явилась основанием христианского богословия, давно стало общим местом в исследованиях, посвященных формированию христианской мысли. Тем не менее, продолжает бытовать противопоставление рационализма античного типа и христианского богословия не рационального, или внерационального в силу своей мистичности, ибо в основе богословие имеет Божественное Откровение (т. е. нечто сверхъестественное по определению). В рамках этого противопоставления акцент, как правило, делается на несовместимости ratio, постигающего мир на свой страх и риск, и Откровения, дарованного Богом человеку извне. Однако в этом противопоставлении есть доля «диалектичности» — мистическое как не рациональный тип знания особым образом участвует в рациональном и созидает его своеобразие, так же как и «мистическое» есть особая форма ratio, открывающая его дополнительные возможности. Подобная интуиция содержится еще в философии досократиков[1]. Так Гераклит во фрагменте 14 (93) пишет: «Владыка, чье прорицалище в Дельфах, и не говорит, и не утаивает, а подает знаки»[2]. Перед нами мистическая ситуация и определенно ситуация откровения, но такого откровения которое предполагает, инициирует познавательную деятельность человека. Если бы оракул все «утаил», знак-знамение не стал бы для человека значимой реальностью, но если бы оракул высказал всю совокупность доступной богам истины, человеческое знание, как отличное от того знания, какое свойственно богам, так же не имело бы места, как не имел бы своего места сам человек. Из фрагмента ясно и другое — знак подан конкретному лицу в конкретных обстоятельствах, и актуальность знака в его включенности в биографический и исторический контекст: ведь нашелся некто, кто задал свой вопрос божеству, и он не остался без ответа.
Несколько другой пример «мистического рационализма» дает Платон в диалоге «Тимей». Как известно, в «Тимее» Платон рассказывает «правдоподобный миф» о происхождении мира. Демиург обращается к парадигме (истинно сущему — миру идей) и творит, соединяя образцы с материей, подобие истинно сущего — разумное и одушевленное тело космоса. Как пишет Платон, Демиург осуществляет свой план посредством «числа и фигуры», т. е. каждая манипуляция творца имеет в своем основании математическо-геометрическую закономерность, выступающую имманентным законом сотворенного, определяющим все существенные параметры мира в целом, каждого элемента сущего в отдельности. Число и фигура — это своего рода откровение истинно сущего одновременно и являющее и скрывающее его вечные смыслы-идеи. По Платону, геометрические и стереометрические объекты отличны как от мира материально-чувственных вещей, так и от мира идей, идеи мы можем только мыслить, материальную реальность воспринимать чувствами. Промежуточная реальность имеет смешанный характер — это область представления, воображения демиурга, в нем понятия облекаются в математическо-геометрическую плоть. В рамках этой серединной, смешанной реальности оказывается возможно чувствовать умопостигаемое и мыслить чувственное, т. е. коренным образом пересматривается запрет на смешение путей интеллектуального и чувственного познания, введенный еще Парменидом Элейским. Если и говорить о мистическом, таинственном, у Платона оно связано именно с этой сферой, ведь мир идей совершенно прозрачен, мир вещей познаваем лишь в силу подобия вещей математическим и геометрическим образам. Число, а в особенности геометрическая и стереометрическая фигура, — завершенная и явленная реальность, в сравнении с которой мир идей слишком абстрактен (несмотря на первичность умопостигаемого по отношению к воображаемому и чувственному), а мир вещей слишком изменчив и непрозрачен для разума. При этом математическо-геометрическая плоть парадигматических принципов условна[3], даже эфемерна[4], но именно к «образам» онтологически и гносеологически прикреплен мир вещей.
Для христианской богословской традиции ресурсы промежуточной, серединной сферы, обозначенные Гераклитом, Платоном и некоторыми его последователями, оказались крайне важны, в особенности для описания Боговоплощения и его последствий для мира и человека. Во-первых, принцип откровения, о котором писал Гераклит, типологически близок к христианскому пониманию Откровения в его связи с Боговоплощением: ведь слово Божие — это исторический (условный, как все созданное, написанное человеком) знак, но знаки Писания указывают на Слово, воплотившееся и вочеловечившееся. Слово воплощается так же, как смысл воплощается в словах и предложениях человеческой речи. Только для тех, кто находится в единстве со Словом, Откровение обретает подлинный смысл.[5] Слово явлено для «имеющих уши», но и скрыто «завесой плоти», «зраком раба».. Во-вторых, принцип, обозначенный Платоном: чувствовать или представлять умопостигаемое и мыслить чувственное, — стал ключевым в том, что можно обозначить мистической традицией христианства. Известно, сколь многим христианское богословие обязано Оригену, известна и его зависимость от традиций среднего платонизма. В трактате «Против Цельса» он пытается конкретизировать тот опыт единства во Христе Бога и человека, который стал определяющим для всей христианской мистики. В этом фрагменте интуиция «ума демиурга» — познания, создающего «правдоподобные образы» реальности, получает христианское обоснование.
«Мы говорим: у всех, кто допускает Провидение, существует твердое убеждение, что многие во сне, иногда с полной ясностью, а иногда в прикровенном виде, получают видения, имеющие отношение к Божественным вещам или к некоторым будущим явлениям жизни. Если же это так, то тогда может ли быть какое-нибудь сомнение в том, что руководительная сила души, которая имеет способность во время сна создавать образы и в состоянии пробуждения точно так же может создавать такие видения, которые бывают полезны или для самого создающего их, или же для тех, которые от него слышат о них. И как во сне представляется нам, что мы и слышим, и получаем раздражение слухового органа, и видим при посредстве глаз, — хотя в действительности впечатления испытываются одним только умом, телесные же очи и уши нисколько не раздражаются; подобно этому нельзя отвергать, что нечто подобное происходило также и с пророками, когда о них в Писаниях говорится, что они видели некоторые необычайные явления, слышали слова Господни, зрели отверзтые небеса. Что касается меня, то я, конечно, не предполагаю, чтобы чувственное небо отверзалось и его раскрывшееся вещество разделилось так, как это и записал Иезекииль… Кто глубже вникнет в подобные (явления), тот скажет: есть некоторый особенный род Божественного чувства, как выражается Писание — такого чувства, участниками которого бывают одни только блаженные, как об этом говорится также у Соломона: ты чувство Божие обретешь».[6]
Как следует из приведенной цитаты, «божественное чувство» способно фиксировать нечто в сверхчувственной реальности и создавать целостные фрагменты реальности, не тождественные ни самой сверхчувственной реальности, ни объектам чувственного, доступного человеку мира. Образы, сформированные рассудком на основе божественных чувств, являются содержанием мистического опыта. Богословские суждения, как можно понять из Оригена, — артикуляция именно такого опыта.
«Это чувство имеет различные виды: зрение, обладающее способностью созерцать вещи, занимающие высшее положение сравнительно с телесными сущностями: к таковым относятся все те, в которых получают свое обнаружение херувимы или серафимы; слух, способный к восприятию звуков, имеющих вневоздушное происхождение; вкус, приспособленный к принятию хлеба живого, сходящего с неба и дающего жизнь миру; обоняние, способное воспринимать все такое, вследствие чего — как выражается Павел — мы становимся Христовым благоуханием Богу; осязание, каким обладал Иоанн, сказавший, что он руками осязал Слово жизни. Блаженные пророки восприняли это Божественное чувство — и оно для них значило: видеть по-Божии, слышать по-Божии и вкушать точно так же (по-Божии), они обоняли чувством не чувствительным, если можно так выразиться, они соприкасались со Словом посредством веры настолько, что Слово изливалось на них и доставляло им врачевание. Таким-то образом они и созерцали вещи, о которых писали, что они их сами видели; таким-то образом они слышали слова, о которых сообщали в своих повествованиях, что они их слышали; таким-то образом они испытывали и все другие подобные же вещи, как, например, то, о чем они записали, говоря, что они ели данный им книжный свиток».[7]
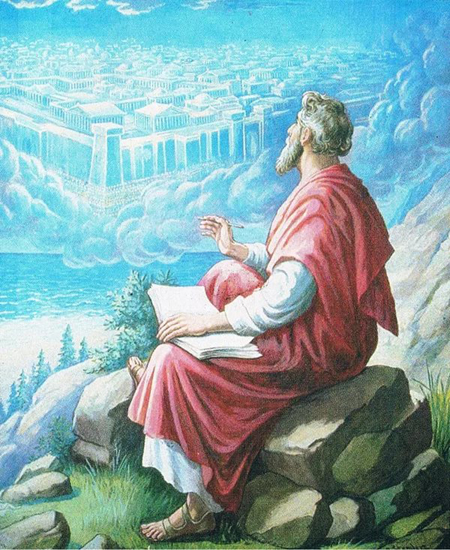 Человеку сообщается благодатная возможность видеть Бога, мир и человека так, как видит мир Бог, при этом наличие «божественного чувства» характеризует человека именно как существо мыслящее и чувствующее (чувственность связана с телом). Идея «Божественного чувства» у Оригена — попытка обозначить уникальность Откровения в его исторической и личностной конкретности, ведь чувство непосредственно сопряжено с реальностью, только конкретный субъект способен чувствовать и воспринимать, вместе с тем реальность Откровения сверхчувственна, Источник Откровения непостижим, но открыт и познаваем во Христе. Богословское выражение этой парадоксальной истины актуализировало уже имеющиеся в античной интеллектуальной традиции принципы. Так, идея ума, мыслящего чувственными образами (пример — демиург-геометр Платона), в определенной степени стал прообразом мыслящей и чувствующей[8] личности христианской традиции.
Человеку сообщается благодатная возможность видеть Бога, мир и человека так, как видит мир Бог, при этом наличие «божественного чувства» характеризует человека именно как существо мыслящее и чувствующее (чувственность связана с телом). Идея «Божественного чувства» у Оригена — попытка обозначить уникальность Откровения в его исторической и личностной конкретности, ведь чувство непосредственно сопряжено с реальностью, только конкретный субъект способен чувствовать и воспринимать, вместе с тем реальность Откровения сверхчувственна, Источник Откровения непостижим, но открыт и познаваем во Христе. Богословское выражение этой парадоксальной истины актуализировало уже имеющиеся в античной интеллектуальной традиции принципы. Так, идея ума, мыслящего чувственными образами (пример — демиург-геометр Платона), в определенной степени стал прообразом мыслящей и чувствующей[8] личности христианской традиции.
[1] В христианской мысли античные интуиции единства мистического и рационального заметно усилились, в значительной степени благодаря центральности для христианской мысли темы личности как подлинного предмета мистического видения.
[2] Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 193.
[3] Представление содержит в себе до конца не избываемый иррациональный осадок, например, «образами» мы оперируем, не выясняя всякий раз их предельных оснований, в математике и геометрии мы имеем дело с аксиомами — своего рода «знаками», «не говорящими и не утаивающими» но указывающими на истину, как бы сообщающими ее (вполне таинственным образом) построению, подкрепляемому аксиомой.
[4] Соответствие стереометрических «образов» четырех элементов самим стихиям (огню, воде, земле и воздуху) у Платона зиждится на аналогии, ассоциации. Скажем, огонь — это пирамида, т. к. он рвется вверх, жжет и светит — он острый, как пирамида с обращенной вверх вершиной.
[5] Мысль, часто встречающаяся у апологетов, отстаивавших у иудеев права христиан на Ветхий Завет как Откровение, адресованное христианам.
[6] Ориген. Против Цельса. I. 48. М., 1996. С. 75.
[7] Ориген. Против Цельса. I. 48. М., 1996. С. 76.
[8] Платоновский Демиург мыслит, обращаясь к парадигме, и «воображает», созидая «числом и образом» чувственный космос.
