Взгляд В.В. Бибихина на творчество К.Н. Леонтьева
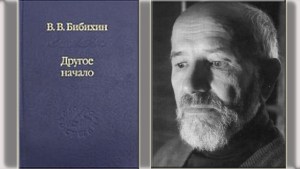 В марте 1989 года была опубликована статья исследователя В.В. Бибихина, посвященная Константину Леонтьеву. Это был период, когда нам вновь стали доступны источники, которые считала нужным скрывать советская власть. Тогда казалось, что стоит лишь распахнуть двери и окна — и все заполнит воздух и простор, пустота исчезнет, ее больше не будет. Статья Бибихина — это был первый серьезный опыт осмысления леонтьевской мысли. Однако надо напомнить, что именно этот автор известен своими переводами Хайдеггера на русский язык. Хайдеггера он воспринял всерьез и глубоко. Поэтому в его прочтении Леонтьева есть, может быть, и неосознанные им самим хайдеггерианские мотивы. Я задался вопросом, насколько они правомерны. Думаю, что многим памятна статья Бибихина, поэтому отмечу только особенно живописные моменты, которые выдают в нем хайдеггерианца. Вот как он говорит о романе Леонтьева «Подлипки»: «Само течение жизни, какая она есть, захватывает автора и его персонажей. Их жизнь наполняют даже не события и разговоры, а самое простое и первое: то, что они просто есть и что они вот такие»[1]. Далее идут следующие утверждения: «Причина счастья — и выполненный долг, и семья, но главное — опять самое прочное и простое: то, что все такое, какое оно есть… То, что есть, вот так, как оно есть, — богатство, одно способное наполнить человека до краев»[2]. Или: «Жизнь подменяется жизнеустройством, страдание этикой. Радость простого бытия, которая важнее любых соображений и оценок, забыта»[3]. Тут, кстати сказать, явно проступает хайдеггеровская тема забвения бытия. Еще дальше читаем: «Вглядывание в привычное, на чем стоят будни, и бесстрашие перед бездной под ногами — начало леонтьевской мысли. Ее простота дается всего труднее. Она совсем не то, что умственные проекты. Ее нет, если она каждый раз не начинает сначала»[4]. Здесь мы видим то, что фрейбургский философ называл мужеством перед лицом страха «бытия-к-смерти». Бибихин пишет: «Почему мы раньше не догадались. Этого человека, умевшего трезвыми глазами «без мечтательных мыслей» смотреть прямо на вещи как они есть мимо картин собственного сознания, должна была мучить смертность вещей»[5]. Мартин Хайдеггер считал, что вся западная философия погрузилась в забвение бытия, сосредоточившись на исследовании сущего. И само понятие бытия стали получать, осмысляя определенные черты сущего. Когда Бибихин говорит о Константине Леонтьеве как о «смотрящем мимо картин», он видит в нем человека, который пусть и не раскрывает бытие сущего, но все же дорефлексивно ощущает его.
В марте 1989 года была опубликована статья исследователя В.В. Бибихина, посвященная Константину Леонтьеву. Это был период, когда нам вновь стали доступны источники, которые считала нужным скрывать советская власть. Тогда казалось, что стоит лишь распахнуть двери и окна — и все заполнит воздух и простор, пустота исчезнет, ее больше не будет. Статья Бибихина — это был первый серьезный опыт осмысления леонтьевской мысли. Однако надо напомнить, что именно этот автор известен своими переводами Хайдеггера на русский язык. Хайдеггера он воспринял всерьез и глубоко. Поэтому в его прочтении Леонтьева есть, может быть, и неосознанные им самим хайдеггерианские мотивы. Я задался вопросом, насколько они правомерны. Думаю, что многим памятна статья Бибихина, поэтому отмечу только особенно живописные моменты, которые выдают в нем хайдеггерианца. Вот как он говорит о романе Леонтьева «Подлипки»: «Само течение жизни, какая она есть, захватывает автора и его персонажей. Их жизнь наполняют даже не события и разговоры, а самое простое и первое: то, что они просто есть и что они вот такие»[1]. Далее идут следующие утверждения: «Причина счастья — и выполненный долг, и семья, но главное — опять самое прочное и простое: то, что все такое, какое оно есть… То, что есть, вот так, как оно есть, — богатство, одно способное наполнить человека до краев»[2]. Или: «Жизнь подменяется жизнеустройством, страдание этикой. Радость простого бытия, которая важнее любых соображений и оценок, забыта»[3]. Тут, кстати сказать, явно проступает хайдеггеровская тема забвения бытия. Еще дальше читаем: «Вглядывание в привычное, на чем стоят будни, и бесстрашие перед бездной под ногами — начало леонтьевской мысли. Ее простота дается всего труднее. Она совсем не то, что умственные проекты. Ее нет, если она каждый раз не начинает сначала»[4]. Здесь мы видим то, что фрейбургский философ называл мужеством перед лицом страха «бытия-к-смерти». Бибихин пишет: «Почему мы раньше не догадались. Этого человека, умевшего трезвыми глазами «без мечтательных мыслей» смотреть прямо на вещи как они есть мимо картин собственного сознания, должна была мучить смертность вещей»[5]. Мартин Хайдеггер считал, что вся западная философия погрузилась в забвение бытия, сосредоточившись на исследовании сущего. И само понятие бытия стали получать, осмысляя определенные черты сущего. Когда Бибихин говорит о Константине Леонтьеве как о «смотрящем мимо картин», он видит в нем человека, который пусть и не раскрывает бытие сущего, но все же дорефлексивно ощущает его.
Надеюсь, ни у кого не возникнет мысли, что я смею подвергать сомнению безусловные достоинства того раскрытия леонтьевской мысли, которое дал нам Бибихин. Безусловно, это лучшее, что было сказано о Леонтьеве в конце двадцатого века. Меня в данном случае интересуют только хайдеггерианские мотивы. Для начала я задал себе вопрос, что вообще для Леонтьева есть философия? Как мыслитель воспринимал, к примеру, метафизику, насколько вообще возможно говорить о метафизике у Константина Леонтьева? Вот, например, что он пишет в своем 4-ом письме к Владимиру Сергеевичу Соловьеву: «Я только сам не мастер испускать из себя эту паутину; да и в чужой философской паутине скоро вязну и скучаю»[6]. Это сказано как раз о метафизике. Хотя, конечно, справедливости ради стоит сказать, что в этом же письме мыслитель чуть ранее отказывается назвать себя врагом метафизики. «Я понимаю, что другой человек, в высшей степени, конечно, умный, может находить особого рода наслаждение в том, чтобы выпускать из себя, как паук паутину, непрерывную диалектическую нить, прикрепив ее предварительно в уме к какой-то невидимой и всегда произвольной точке… Я даже не позволяю себе никак отвергать пользу этого испускания философских нитей из умственных недр человека. Я не хочу быть петухом, который «нашел жемчужное зерно и говорит: на что оно?».[7] Другими словами, Леонтьев признает метафизику, но особым образом. Для него она «незримая точка», до которой ему очень трудно, да и не нужно каждый раз доходить, как и «врач при описании известного класса болезней не считает себя обязанным доходить всякий раз и до химии тканей, крови, отделений и т.д.». В леонтьевском мире метафизике отведена роль в лучшем случае молекулярной сферы, которая, конечно, реальна, но связать ее с конкретными проблемами и перипетиями человеческой жизни четкой причинно-следственной связью — задача на грани курьеза. Это значит — выводить высшее из низшего. Леонтьев этого, конечно, не договаривает, но из того, что им все-таки по этому поводу сказано, следует низшее положение метафизики. Метафизика не является способом открывать внутри себя пространство для бытия.
Сходный взгляд на это имел базельский профессор Фридрих Ницше: «Несомненно, что метафизический мир мог бы существовать; абсолютная возможность этого вряд ли может быть оспариваема… Это есть чисто научный вопрос, мало способный озабочивать человека. Если существование такого мира было доказано совершенно точно, то все же было бы несомненно, что самое безразличное из всех познаний есть именно его познание; еще более безразличное, чем моряку среди опасностей бури — познание химического анализа воды»[8]. Таким образом, в своем отношении к метафизике Константин Леонтьев не одинок. Правда, в отличие от Ницше по-настоящему существенной для него являлась философия истории. Тут он испытал некоторое относительное, фрагментарное влияние Г.В.Ф. Гегеля и О. Конта. Все человеческие культуры проходят три последовательных состояния: первоначальной простоты (подобно неразвитому эмбриону), потом цветущей сложности (подобно зрелому организму в расцвете сил), и вторичного смешения и гибельного всеобщего уравнения, обезличивания и распада. Леонтьев приводил пример: германские варвары в эпоху переселения народов представляли собой первоначальную простоту быта; европейское Средневековье — это эпоха цветущей сложности жизненных форм; с просвещенческого движения и Французской революции 18 столетия в Европе начался период вторичного упрощения и гибельного смешения. Что касается России, то тут мыслитель делал упор на византийской закваске русской культуры. Византия рассматривалась им как высший, непререкаемый культурно-исторический идеал. Надо сказать, что здесь проявлялось одно из противоречий леонтьевских взглядов. Европейская цивилизация больна, но жива. Византия погибла в XV веке. Владимир Сергеевич Соловьев указывал на отсутствие внутренней связи между тремя столпами его мысли: византизмом, эстетизмом, суровым аскетизмом (в плане личного спасения). Я добавил бы сюда и идею «триединого процесса». Действительно, как можно искренне нападать на новоевропейскую цивилизацию, если, согласно леонтьевским «трем стадиям», она есть результат естественного исторического процесса. И каким образом совместить Византию как универсальный культурно-исторический идеал с эстетизмом, исходя из которого можно предпочесть, например, Ренессанс.
При всей разнородности составляющих мировоззрения Константина Леонтьева (вопреки мнению В.С. Соловьева) я думаю, что есть определенная ось, вокруг которой вращаются его исторические взгляды. Бибихин в значительной степени ухватил эту ось, именно это позволило ему даже привнести туда, скорее всего, неосознанно, хайдеггерианские мотивы. Я сказал «в значительной степени» потому что один существенный нюанс не был проговорен. Итак, в чем же эта ось и как к ней подойти. На мой взгляд, есть одна дверца, через которую можно подобраться к проблеме — это идея становления.
Освальд Шпенглер в своем главном труде «Закат Европы» провел резкую грань между двумя способами переживать мир. «Я с полной резкостью отделяю по форме, а не по материалу, органическое представление о мире от механического, совокупность образов от совокупности законов, картину и символ от формулы и системы, однажды действительное от постоянно возможного, цель планомерно строящего воображения от целесообразно разлагающего опыта…»[9]. Таким образом, Шпенглер связывает понятия времени и становления, хотя, конечно, еще вопрос, в каком смысле становление может быть понятием (но это, по-моему, предмет для отдельного доклада). Леонтьев прямо по Шпенглеру втянут в мир становления, в этот жизненный поток. «Я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, — пишет он, — и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой удивительной драме земного бытия».[10] Леонтьев вглядывается в аристократичекое, как в бьющую через край полноту бытия. «Цветущая сложность» культуры, переживающей подъем. Общество, переливающееся всеми красками красоты и силы. Утонченное изящество элиты. Флигель-адъютант, аристократ и красавец Вронский более полезен, чем даже сам Лев Толстой, потому что эстетичен, потому что олицетворяет красоту, поэзию и силу. Пусть будут такие, как Вронский, а создать полотно — это уже второстепенно. Вот что пишет Леонтьев в статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой»: «Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации».[11] Для него главной осью и ценностью является переполненность бытием, пульсирующая жизненность. Он видит это в дворянине-аристократе. Но он видит эту бытийственность ускользающей, уходящей. Мы ее теряем, ее больше не будет. Но это взгляд со стороны, извне. Отсюда и этот эстетизм в качестве основного принципа. Эстетика, как критерий, приложима ко всему, начиная от минералов до человека. Подлинная, высшая эстетика есть лишь внешняя сторона переполненности бытием. Выдающийся русский мыслитель на самом деле не ощущал в себе этой бытийственности. Для Леонтьева красивый минерал и флигель-адъютант Вронский были разыми ступенями одной лестницы: «…Главный аршин — прекрасное. Иначе, куда же деть Алкивиада, алмаз, тигра и т.д.»[12]. Как и Хайдеггер, Леонтьев устремлен к бытию, но путь у него был совершенно иной. Если немецкий философ хотел, чтобы в человеке, как в месте присутствия бытия, бытие обнаружило свою раскрытость, то Константин Леонтьев стремился не потерять бытие из виду.
Парадоксально, но это возведение Византии в принцип, как результат взгляда извне, интеллектуально вывело мыслителя за пределы становления в область ставшего. И парадокс здесь в том, что Леонтьев, отдавая приоритет истории и соединяя бытие с сущим, делает это таким образом, что чем ближе оно к нему самому во времени, тем меньше в нем бытийственности. Конечно, кто-то может сказать, что мы сами, находясь в ситуации безвременья, имеем право утверждать, что сущее может потерять свою бытийственность. Однако это высказывание не будет иметь под собой почвы потому, что ситуацию абсурда, в которую мы попали после культурной катастрофы 1917 года, нельзя никаким образом переносить из области исторической действительности в область истинно-сущего. И если бы Константин Николаевич признал бы «цветущую сложность» истинно-сущим, тут еще можно было бы предполагать, что для личности есть путь раскрытия этой бытийственности в себе. Но Леонтьев зафиксировал ставшее как идеал, и эта возможность оказалась закрытой. Тем не менее, нельзя не увидеть в этой его мысли, в этом его идеале, что бытие в условиях Византии было собственно сущим. Для Хайдеггера это совершенно невозможная мысль. Да, бытие — это всегда бытие сущего, и, тем не менее, бытие до конца не тождественно сущему. Даже человек — место, где бытие обнаруживает свое присутствие, не ставит вопрос о бытии самостоятельно. Не личность вопрошает бытие, а бытие через личность вопрошает себя. Таким образом, личность не является субъектом вопрошания в полном смысле слова. Личность оттесняется на второй план. Леонтьев же, благодаря своим противоречиям, сохраняет во многом приоритет личности.
Он даже говорит однажды о возможности для человека по каким-то своим глубинным мотивам пойти на преступление. Но все же такой приоритет скорее внешняя установка, чем внутренний опыт русского мыслителя. Тут я приведу один крайне странный (для нас сегодня) случай. Л.А. Тихомиров в своей статье «Тени прошлого. К.Н. Леонтьев» пишет: «Когда он [Леонтьев — Т.С.] еще жил в Оптиной Пустыне, я написал статью «Социальные миражи современности» и в ней доказывал, что коммунистическое общество должно явиться очень деспотическим, но фактически не эгалитарным, а расслоенным, при очень сильном и властном верхнем правящем слое. Эта статья возбудила чрезвычайное внимание Леонтьева, но совсем не в том смысле, как можно было бы думать. Он из нее вывел заключение не против коммунизма, а за него, пришел почти в восторг. Когда он приехал в Москву, он с живейшим интересом стал меня расспрашивать о подобных основаниях моего мнения и говорил, что если так, — то коммунизм будет, стало быть, явлением очень полезным… Мы боялись социализма, а оказывается, что он восстановит в обществе дисциплину»[13]. Далее: «Леонтьев шутливо нарисовал сценку из будущего социалистического строя: Представьте себе. Сидит в своем кабинете коммунистический действительный Тайный Советник и слушает доклад о соблюдении народом постных дней. Ведь религия у них будет непременно восстановлена — без этого нельзя поддержать в народе дисциплину…»[14]. Не буду продолжать: все это чрезвычайно странно. Этот курьезный случай для Леонтьева если и характерен, то как срыв мысли. Он понимал в первую очередь, что надвигается что-то ужасное, и он ощущал это как катастрофу. Но, тем не менее, приведенный фрагмент отлично показывает, что мыслитель наблюдал за пульсирующим бытием извне.
И все же странный парадокс леонтьевской мысли состоит в том, что именно в ее противоречиях, как ни в чем другом, выявляется личностность. Личность присутствует потому, что нет цельности: в этом ощущается какой-то надлом. Лицо Леонтьева становится видно через трещины стекла. Бибихин же пытался поместить в основание его мысли некое хайдеггерианское архэ. И, конечно же, Мартин Хайдеггер не дает нам повода для утверждения о каком-то надломе: его философия достаточно целостна. Можно сказать, что Хайдеггер и Леонтьев не только имеют точки соприкосновения, в известном смысле слова они противоположны друг другу. Противоположны еще и в том, что для леонтьевской бытийственности будущее есть естественный враг, а для хайдеггеровского бытия будущее есть возможность прорыва из забвения.
Трудно удержаться и не напомнить о том, что работа леонтьевской мысли протекала в условиях исторической России. Между нами и Леонтьевым огромная советская лакуна. Нас окружает небытие. Мне думается, что за опыт Константина Николаевича нам в полной мере не зацепиться в нашем пути, но и опыт Хайдеггера в нашей безвоздушной реальности тоже не вполне доступен. Написанное Леонтьевым можно сравнить с прекрасным вином, разлитым по полу, Хайдеггером же — с золотым бокалом, в который обещают налить вино, но все еще не налили. Однако вопрос, поставленный Хайдеггером: «Кто мы?» — это голос самого времени, это наш крик официанту: «Наливайте вино!». Ведь начать отвечать — значит услышать свой голос, свою осмысленную речь, то есть стать причастным Логосу, ощутить бытие, обнаруживающее свое присутствие внутри нас. Статья Бибихина о Леонтьеве — это начало серьезного разговора о нас самих.
Журнал «Начало» №15, 2006 г.
[1] Бибихин В.В. Другое начало. СПб., 2003. С. 120.
[2] Там же. С. 122.
[3] Там же. С. 123.
[4] Там же. С. 124.
[5] Там же. С. 126.
[6] Русь многоликая. К. Леонтьев. Наш современник. СПб., 1993. С. 73.
[7] Русь многоликая. К. Леонтьев. Наш современник. СПб., 1993. С. 73.
[8] Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. М. - СПб., 2002. С. 26.
[9] Шпенглер О. Закат Европы. М., 2000. С. 9.
[10] Бибихин В.В. Другое начало. СПб., 2003. С. 125.
[11] Русь многоликая. СПб., 1993. С. 127.
[12] Цит. по: Бибихин В.В. Другое начало. СПб., 2003. С. 120.
[13] Русь многоликая. СПб., 1993. С. 370.
[14] Там же.
